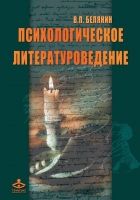|
Оценить:





|
Психологическое литературоведение
- Предыдущая
- 49/97
- Следующая

49
Л. С. Выготский предлагает очень обстоятельный анализ этого рассказа, который является несколько противоречивым. С одной стороны, «доминантой <…> рассказа <…> является, конечно, „легкое дыхание“ „на фоне тоскливо затаенного настроения“», – пишет исследователь. С другой стороны, смысл произведения сводится им к описанию нравственного падения Оли Мещерской и «житейской мути»: «Едва ли можно определить яснее и проще характер всего этого, как словами „житейская муть“» (там же, с. 147).
Л. С. Выготский полагает, что столкновение этого легкого дыхания, возникающего при чтении текста с «житейской мутью», описанной в нем, – борьба формы с содержанием – и рождает эстетическую реакцию. При этом он замечает, что «самый этот рассказ об ужасном почему-то носит странное название легкого дыхания» (там же, с. 152).
Вот как завершается этот рассказ. Оля Мещерская рассказывает своей подруге:
...Я в одной папиной книге прочла, какая красота должна быть у женщины <…> главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, ты послушай, как я вздыхаю, ведь правда есть?
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в этом холодном осеннем ветре.
Если согласиться с тем, что доминанта этого текста – депрессия, то само появление компонента 'вздох', а точнее, 'желание глубокого вздоха' вполне обосновано – оно коррелирует с затрудненностью вздоха при депрессии. Именно желание вздохнуть является как бы сквозной доминантой, вокруг которой группируются все основные смыслы в тексте.
В этой связи трудно считать случайностью, что рассказ Бунина о нежной и лиричной, но трагичной любви мальчика по имени Митя также заканчивается фрагментом со словом вздохнуть:
...…Он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.
Л. С. Выготский считал, что этот рассказ «по своим художественным достоинствам <…> принадлежит, вероятно, к лучшему из всего того, что создано повествовательным искусством, и <…> почитается образцом художественного рассказа» (там же, с. 144). То, что рассказ относится к типу «печальных», позволяет яснее увидеть еще одну сторону его внутренней формы, тот первоэлемент концепта, из которого может «разворачиваться» весь текст.
Тяжесть
Некоторая мрачноватость депрессивных личностей обусловливает появление в «печальных» текстах семантического компонента 'тяжесть':
......Наступило молчание…
Великая тяжесть давила ей на сердце – тяжесть мира, лишенного смысла.
Настали темные, тяжелые дни <…> Свои болезни <…> Холод и мрак старости <..>. На замирающем <…> дереве лист мельче и реже <…> Сожмись и ты <…> – и там <…> на самом дне <…> души, твоя прежняя <…> жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и <…> силой весны!
Нередко ощущение 'тяжести' предшествует смерти.
...Вот она… о, тяжело / Пожатие каменной его десницы! / Я гибну – кончено – / О, Донна Анна!
Говорить, что у каменной статуи заведомо тяжелое пожатие, – значит, идти на поводу у затекстовой реальности. Статуя потому и каменная, что ее пожатие несет смерть, – логика авторской вербализации мироощущения реверсивна по отношению к реальности. Иными словами, сначала в сознании автора формируется «конечный концепт» (смерть), затем ему подбираются концепты реальности, которые для него связаны с этим концептом (камень), и только потом он находит объекты, которые могут в реальности соответствовать им (статуя).
* * *
В творчестве одного автора обнаруживается значительное постоянство текстовых структур и соответственно эмоционально-смысловой доминанты на протяжении всей жизни писателя.
Обращаясь к творчеству И. А. Бунина, одна из исследовательниц пишет следующее: «Писательская индивидуальность Бунина отмечена в огромной мере таким узлом – соединение в его мироощущении острого, ежечасного „чувства смерти“, памяти о ней, с сильнейшей жаждой жизни. Когда одно вытекает из другого, усиливает и подогревает друг друга…» (Колобаева, 1990, с. 82). «Иван Алексеевич мог бы и не признаваться в том, о чем он сказал в автобиографической заметке „Книга моей жизни“, потому что об этом говорит само его творчество». И далее исследовательница приводит высказывание самого писателя: «Постоянное сознание или ощущение этого ужаса (смерти. – В.Б.) преследует меня чуть не с младенчества, под этим роковым знаком я живу весь век. Хорошо знаю, что такой знак есть участь общая. Но мне кажется, что я всегда чувствовал и чувствую его гораздо сильнее, чем многие другие» (там же).
Депрессия сопровождает все творчество и такого писателя, как Тургенев.
Так, «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева представляют собой миниатюры разных форм: пейзажные зарисовки, диалоги, полемику, дневниковые записи, философские миниатюры и др., но никак не стихотворения. Но эмоционально-смысловая доминанта проявляется независимо от жанра.
Да и само это название – «Стихотворения в прозе» – было дано издателем И. С. Тургенева М. М. Стасюлевичем, которого привлекла поэтичность и лиричность стиля, но которому показалось неудачным для широкой публики заглавие, предложенное автором. – «Senilia» («Старческое»). Именно авторское название, помимо прочего, позволяет утверждать, что психологическая доминанта нами определена верно, и «Стихотворения в прозе» следует отнести к «печальным» текстам.

- Предыдущая
- 49/97
- Следующая