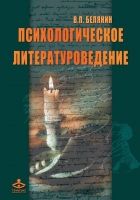|
Оценить:





|
Психологическое литературоведение
- Предыдущая
- 72/97
- Следующая

72
Н. А. Рубакин отмечал необходимость собирать сведения о том, какие именно книги и общественные идеи находят наиболее «благоприятный отклик» в тех или иных общественных группах. Он призывал изучать взаимодействие книги и читателя с учетом определенных условий – экономических, политических, психологических. Тем самым Н. А. Рубакин ставил задачу поиска факторов, влияющих на обращение читателя к той или иной книге, рассматривая характер связей не только в системе «книга – читатель», но и в системе «идея – читатель». Конечной целью при этом, по замыслу Н. А. Рубакина, должно быть создание теории научно обоснованной пропаганды чтения и библиопсихологии как науки о восприятии и распространении книг.
В его концепции наряду с признанием важности выявления индивидуальных и групповых особенностей читателей содержание текста рассматривается и как совокупность семантических образований, и как стимул для образования тех или иных проекций у воспринимающих текст читателей (или типов читателей). При этом под проекцией Н. А. Рубакин понимает результат восприятия текста некоторым реципиентом, а под типом читателя – группу личностей, одинаковым образом воспринимающих текст, реагирующим на него, полагая, что «классифицировать людей по их психическим типам – это значит выяснить, какие именно переживания повторяются у них относительно часто» (там же, с. 163).
Вклад Н. А. Рубакина исключительно высоко оценили представители сразу нескольких дисциплин. Например, венгерские психологи пишут: «Русский исследователь Николай Рубакин вошел в историю мировой культуры как основатель новой дисциплины – библиографической психологии» (Estivals, Savova, 1998).
Таким образом, изучение читательских предпочтений позволяет также приблизиться к ответу на вопрос о том, с чем связано не только предпочтение определенных авторов некоторыми читателями, но и их неприятие другими.
Индивидуальные различия восприятия художественного текста
Воспринимая произведение, читатель «впитывает» и его художественную форму, и развернутость художественных образов, и многое другое, что в совокупности составляет художественный текст. Вместе с тем восприятие и понимание текста органически сочетаются с его семантической компрессией и выделением смысловых опорных пунктов. При этом, поскольку выделяемые смысловые «вехи» художественного текста являются коннотативно отмеченными, они получают определенную оценку со стороны читателя. Даже если такая оценка и не осознается читателем, процесс чтения художественного текста все равно представляет собой процесс пересечения смысловых полей (в том числе и эмотивных) текста и смысловых полей (прежде всего эмоциональных) читателя. Разведение эмотивных структур (текста) и эмоциональных структур (личности) предлагает Ю. А. Сорокин.
Проблема субъективности восприятия знакового продукта была поставлена крупным философом и культурологом В. Гумбольдтом, особое внимание уделявшим процессу понимания речи. Общеизвестно положение Гумбольдта о том, что говорящий и слушающий воспринимают один и тот же предмет с разных сторон и вкладывают различное, индивидуальное содержание в одно и то же слово. «Никто не принимает слов совершенно в одном и том же смысле, – писал он. – <…> Поэтому взаимное разумение между разговаривающими в то же время есть недоразумение, и согласие в мыслях и чувствах в то же время, и разногласие» (Гумбольдт, 1859, с. 62).
Об этом же пишут и многие современные исследователи (Ингарден, 1962; Лотман, 1972). Понимание и особенно интерпретации смысла художественного текста зависят от ряда внутренних, субъективных факторов.
Крайним случаем выражения субъективизма в интерпретации процесса восприятия является такое утверждение: «Смыслы, которые индивид приписывает объектам понимания, он черпает из своего внутреннего мира – мира индивидуального сознания, образующего основу понимания» (Никифоров, 1982, с. 51). Более взвешенным нам представляется другой подход: «Смысл любого рассказа (повести, романа) заключается не в предметном содержании, его фабуле, а в отношении читателя к прочитанному. Отношение проявляется в интерпретации, выводах, предположениях, ответах на вопросы и т. д.» (Знаков, 2002, с. 39).
Многие исследователи полагают, что при обращении к художественной литературе читатель выступает не только как носитель знания, но и как личность со своей структурой ценностей и динамических смысловых систем (Бореев, 1985; Ваину, 1997; Каракозов, 1998; Леонтьев Д. А., 1991; Нишанов, 1985, и мн. др.).
Есть много свидетельств тому, что писатели, оценивая произведения коллег по цеху, выносили иногда прямо противоположные суждения. Так, Гете высоко ценил творчество Шекспира, а Л. Н. Толстой не жаловал великого английского драматурга. Таких фактов очень много, но они не систематизированы и не исследованы, хотя такая работа могла бы многое дать психологии искусства.
Субъективность читательского восприятия может быть доказана и проиллюстрирована множеством примеров. Рассмотрим наиболее типичные оценки «темных» текстов И. А. Крылова. В его баснях присутствует семантический компонент 'злость' и противопоставление «знающего» и «делающего», которым описывается большинство объектов материального и социального мира, что характерно именно для «темных» текстов. Эта доминанта определяет всю систему образных средств, используемых в его текстах.
В качестве одного из проявлений обыденного отношения к «темному» художественному тексту приведем пример из периодической печати:

- Предыдущая
- 72/97
- Следующая